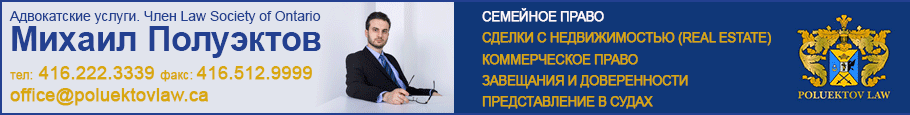«Ты — это мох, который осознает свое ничтожество и учится с ним жить» . Как существовать в мире, который катится в бездну? Отвечает философ (то есть человек, которому положено знать ответ на такой вопрос)
1:14 am
, Today
0
0
0

Продолжаем подводить итоги в рамках проекта «Четверть века». Сначала мы выбрали лучшие фильмы с 2001-го по 2025-й; потом обсудили с социологом Константином Гаазе, как за это время изменились российское общество и сама идея демократии. А еще поговорили о том, как эксперты представляли себе Россию в 2025 году и в чем они ошиблись.
Настало время поговорить о том, как мы себя чувствуем в этом новом мире. У нас теперь есть искусственный интеллект, зато нет будущего. Мы бесконечно спорим об этике, но как будто не стали счастливее. Мир как никогда открыт, однако зачем-то схлопывается обратно. Мы начинали век с оптимизмом, а два десятилетия спустя думаем, как сохранить то, что еще не разрушено. Обо всем этом «Медуза» поговорила с молодым российским философом и исследователем бессознательного (имя ученого вы наверняка знаете, но мы не можем называть его из-за нашей «нежелательности»).
— В философско-антропологической перспективе 25 лет — это ничто. Человек каким был — беззащитным, глупым или, наоборот, очень умным и защищенным, — таким и остался. Но очень сильно изменились обстоятельства. Как говорил Маркс: есть базис и надстройка
. Они изменились.
В 2000-м у многих из нас впервые появились мобильный телефон и компьютер. Не у всех еще этот компьютер был подключен к интернету. А теперь выросло целое поколение, которое вообще не представляет мир без связи. Это случилось за четверть века.
За эти 25 лет мы уже успели вкусить разных радостей и свобод, связанных с технологиями — они временами сильно облегчают жизнь, делают ее прозрачной и производительной. Но и создают зависимость. Она особенно заметна в последнее время, когда в системе из-за войны или диктатуры происходят сбои: отключения интернета, блэкауты и прочее.
При этом развиваются также технологии себя и своего тела. Если посмотреть ютьюб или фильмы 2000 года, мы увидим много актеров и актрис с натуральными лицами и естественной мимикой. А сейчас бьюти-индустрия совершенствуется, и лица выравниваются, приближаются к некоему общему стандарту. Становится проще подогнать образ к своему идеалу. Из-за этого, например, люди теперь выглядят намного моложе. Те, кому в 2000-е было за 40, теперь могут выглядеть примерно на тот же возраст. То есть время будто немного затормозилось в этом смысле.
Это точно. Будущее пропало. Вообще исчез этот горизонт — перспектива светлого будущего не присутствует нигде и никак. Это главное, на самом деле, за эти 25 лет. Как, знаете, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Черт украл Луну. А у нас похитили будущее.
У нас поменялась перспектива и ощущение того, что впереди, а что позади. По сути, мы схвачены в зеркало, где будущее и прошедшее — это катастрофа. Они отражаются друг в друге, а мы — словно медиум этого отражения.
Я не знаю, хорошо это или плохо. В целом, светлое будущее само по себе — не такая уж самоочевидная вещь. Может быть, мы просто прозрели за эти 25 лет.
Александр Гронский
—В 2014-м, когда я узнала, что происходит на Донбассе, я вдруг поняла, что война становится нашей реальностью. Что она не в прошлом, но в настоящем. А двигаться к каким-то светлым горизонтам будущего во время войны — это какая-то невменяемая ситуация.
С другой стороны, наша реальность — и в 2014-м, и даже сейчас — это все же не полный конец света и не руины. А полуруины, на которых начинают расти деревья, прорастают цветы из разрушенных зданий, покрываются мхом камни. И ты — этот мох, который осознает свое ничтожество и учится с ним жить.
В будущем, конечно, есть какое-то величие — кажется, что ты движешься к великому, а настоящее можно принести в жертву — просто бросить в топку. А если ты никакой не великий, а просто мох, то ты растешь на руинах. И тогда ты уже не одиночное существо, а коллективное. У тебя появляются родственные души. И вот уже мы уже вместе прорастаем в подвалах, с потолка свисает плесень и мешает порядочным людям строить свой чистый, стерильный порядок будущего фашистского мира.
—Я очень хорошо помню Новый 2000 год. Мы вместе с товарищами пошли на Тверскую площадь, где была куча самых разных людей. И ни одного полицейского. Шампанское лилось рекой. Общий салют, все обнимались, целовались. Это была совершенно хаотичная, никем не регулируемая толпа радостных людей. И в целом тогда Москва была полна мест, с одной стороны, открытых для всех, а с другой, непрозрачных для большого Другого
. В ней было много чего по ту сторону добра и зла.
А потом она похорошела. Люди стали «более лучше одеваться», улицы стали блестящие, стерильные. Когда я приезжаю в Москву, то вижу красивое Бульварное кольцо — вдоль него стоят лавочки, но на них никто не сидит.
Александр Гронский
— Да, с одной стороны, есть этика и мораль, а с другой — чувства. Этическое представление о том, что хорошо и плохо, что можно, а чего нельзя, радикально изменилось за эти 25 лет.
Например, в том, что касается выражения чувств, любви. Мы хотим все контролировать. Но чувства часто конфликтуют с этикой — они принципиально не попадают в зону нашего контроля. За нашими поступками стоят не только и не столько разумные решения и моральные соображения, сколько желания и то, что философы называют страстями или аффектами. Например, любовь к одному человеку — и ревность к другим. Или любовь к своей стране — и ненависть к другим странам.
В целом, прекрасно, когда мы сами себя контролируем. Это большое искусство, древнее как само человечество. Но чаще получается так, что контролировать мы начинаем не себя, а других. И тогда этика оборачивается попыткой поймать за руку другого и сказать: ты во всем виноват. Уличить другого во зле или несовершенстве и тем самым продемонстрировать свою белизну, моральное превосходство. Но я не могу сказать, что это изменение последних 25 лет. Так было всегда.
Но сейчас это [обвинение других] стало более публичным и популярным. Так, например, можно разобраться с собственным подавленным чувством вины — свалив ее на другого и начав этого другого пинать, прогонять в пустыню, приносить в жертву. Словом, искать козла отпущения. И эта современная культура козлов отпущения — это обратная сторона того, что мы пытаемся улучшить моральные нормы на уровне общества.
Мы понастроили себе границ — и окопались в них. Сидим, ждем, когда кто-то за них заступит, чтобы ответить агрессией тем, кто покусился на наш психологический комфорт.
—Да, война у многих вызывает чувство вины, но не все могут с ним справиться, потому что оно болезненно.
Здравомыслящие люди говорят: вина — это плохое слово. Вина — это когда вы кого-то обвиняете, а у них потом появляется ресентимент: они затаивают обиду, а потом ее выплескивают. А ответственность — это когда вы говорите: да, от меня что-то зависит, и я могу что-то сделать или изменить.
Этот тезис известный, но с виной все-таки есть большая проблема: просто так от нее не отмахнуться. Это как первородный грех. Про него тоже кажется: ну, какой первородный грех? Младенец невиновен. И вдруг значительную часть мира захватывает религия, основанная на метафизике первородного греха, из которого мы выросли, чтобы его превозмочь.
В чувстве вины есть что-то, что не растворяется, не уходит — некий несводимый остаток. И он может причинять боль и страдания. Я помню, когда началась война в Украине, у меня от чувства вины буквально скручивало ноги.
И вот мы не можем справиться с этим чувством, мы его вытесняем. Мы не чувствуем никакой вины, мы ни в чем не виноваты. А вот они виноваты: мой сосед, мой друг, мой ближний. Родители. Мама виновата. Папа виноват, конечно. И вот этот брат, который пошел воевать. Но не я. Оставьте меня в покое, пожалуйста.
Это выученная невинность, выученное бесчувствие. Как и выученная беспомощность, оно лечится. Лучшее лекарство — не вытеснение этого чувства, не перенос вины на другого, а практическая деятельность. Добрые дела, которых никто не видит. Анонимное участие и волонтерство.
Александр Гронский
—С одной стороны, кажется, что насилия стало больше после начала войны. Но в двухтысячные в России тоже было очень много насилия — бытового, например. И в какой-то момент мы об этом забыли.
А потом случился ковид, который сильно пошатнул нашу толерантность. Изменилось отношение к смерти — ее было много, и она была рядом. Постоянно появлялись новости, что умер кто-то из дальнего круга. Потом — из ближнего, чьи-то родители. Это был разгул смерти с косой по всему миру. Да, это длилось не так долго, как чума, но тем не менее. Мы как вид с этим справились, но какую-то цену за это заплатили — и, я думаю, сейчас мы не можем оценить, какую, потому что дистанция еще недостаточно значительная.
Но что-то уже видно. Именно в ковид стало понятно, что можно просто взять и закрыть границы между государствами. И не случится никакой супер катастрофы. Случится локально, но, в принципе, не конец света. Плюс, стало понятно, что привычное течение рынка можно просто приостановить. Это можно сделать на государственном уровне — сказать, что сейчас у нас чрезвычайное положение, вот это и это больше не работает, теперь мы живем по новым правилам.
Пять лет назад Бруно Латур
писал, что ковид — это репетиция климатической катастрофы, которая будет куда более страшной. Но, может быть, это была репетиция не климатического апокалипсиса, а войны, которая пришла быстрее. И я говорю не о конкретной войне, а о милитаризации как глобальном тренде.
Сейчас все хотят войны. Точнее вроде бы и не хотят, но готовятся. И тут включается логика самосбывающегося пророчества. Допустим, страна Х и страна Y — каждая сама по себе — активно обсуждают опасность, которую несет для нее соседняя страна. «Они собираются на нас напасть, давайте мы тоже будем готовиться к нападению». Происходит взаимный превентивный процесс. Дальше копится военная мощь, и надо ее куда-то тратить. Так открывается воронка, которая затягивает сначала ближайших соседей, потом дальних, потом еще более дальних, и потихоньку все туда проваливаются.
В 2000 году о Третьей мировой войне не могло быть и речи. А сейчас это главная тема, все об этом говорят — причем всерьез, не шутят.
Я не удивлюсь, если через какое-то время смерть станет совсем обыденным делом. Допустим, жили люди хорошо, а потом раз — и трупы уже вешают на столбах. И ты идешь на работу, думаешь: сегодня у меня совещание, надо представить свой проект, а рядом кого-то опять вешают. И тебя это больше не шокирует.
Конечно, я не говорю, что это случится прямо завтра. Мы вообще договорились, что будущего не существует. Но я имею в виду, что мы становимся более толерантны к прямому насилию.
Александр Гронский
—Это не цинизм. Нас, конечно, триггерит насилие, потому что мы же становимся все более моральными, то есть хотим все контролировать. А насилие выходит из зоны контроля. Но некоторые вещи вокруг теперь воспринимаются более обыденно. Например, нас не шокирует, что кого-то ни за что посадили в тюрьму на 25 лет и пытают.
25 лет назад нас бы это сильно шокировало. А сейчас, поскольку мы об этом довольно часто читаем, то думаем: «Ну, вот еще кому-то не повезло. В этой „Игре в в кальмара“ опять кто-то попался».
— 25 лет назад была совершенно другая сексуальная культура. В ней социальной нормой были различного рода манипуляции. А теперь они кажутся либо отвратительными, либо смешными. Нас учили: хочешь понравиться мужчине — притворись слабой или скажи, что у него большой член.
Молодежь понимает, что цинизм, манипуляции, абьюз — все это дорога в ад. Уходят в прошлое традиционные гендерные роли. Например: году в 1999-м я была еще совсем юной девушкой, познакомилась в клубе с мужчиной постарше, мы провели вместе ночь у него дома. Утром он просыпается и говорит: «Зай, я на работу, а ты пока тут приберись, пыль протри. Вернусь — пойдем по магазинам подарки тебе покупать». Я тогда растерялась, не знала, что ответить. Просто дождалась, когда он уйдет — и тоже тихо ушла. Но осадок остался. Современная девушка, наверное, не промолчала бы в такой ситуации. Да и вряд ли современный мужчина сделал бы такое унизительное предложение. А тогда такое казалось в порядке вещей.
Люди сегодня открыто обсуждают сексуальные практики. Опять же, технологии помогают: с будущими партнерами, которых мы, допустим, находим в приложениях для знакомств, можно договориться еще на берегу о своих сексуальных предпочтениях. Исчезает ли при этом романтика, тайна? Не знаю. Мне кажется, любовь — такая вещь, что некая недосказанность в ней будет всегда. Даже если нам будет казаться, что мы обо всем договорились.
Александр Гронский
—Все циклично. Сейчас время реакции. Такое время неизбежно порождает большое количество жертв — человеческих и не только. Люди гибнут за символические ценности, за флаг, за территорию, за доминирование.
Скатываются в состояние варварства, но все равно остается что-то живое. В конце концов это живое прорастет, даст плоды, милитаристы всех мастей друг друга перегрызут и сгинут, придут энтузиасты и начнут строить новый мир или восстанавливать порушенное. Добиваться расширения прав и свобод.
И когда жизнь снова станет относительно мирной и благополучной, начнется очередной правый поворот. Кому-то не понравится, что у женщин слишком много прав и свобод, кого-то взбесят люди непохожей внешности, еще где-то обнаружат скрытых врагов — и постепенно общество встанет на деструктивные рельсы. Дескать, хотим движухи, чтобы взрывалась граната, чтобы у нас билось сердце, чтобы мы могли умереть за что-то абсолютно эфемерное, а не просто влачить жалкое обывательское существование.
Если посмотреть на руководителей современных государств, можно сделать вывод, что от патриархальной первобытной орды, которую описывал Фрейд, мы ушли недалеко. Вернее, вообще никуда. Сначала альфа-самцы захватывают все ресурсы при помощи грубой силы, затем, когда они всех достали, их убивают. Но вскоре кто-то из братьев-убийц сам становится таким «отцом» и все начинается по-новой. Такие вот качели. И нам с них никак не соскочить.
Нельзя представить хороший мир, который уже больше не изменится и будет просто совсем хорошим. Прекрасную Россию будущего, которая соскочила с качелей — и все, всегда прекрасная. Нет, такая прекрасная Россия будущего существует только по ту сторону индивидуальной жизни. Называется она загробный мир. И в этой России нет ничего: ни одного человека, ни одного дома, ни одной живой души.
Александр Гронский
— Я почти уверена, что у них будут совершенно другие материальные условия существования. Непонятно, чем они вообще будут дышать. Они, конечно, будут находиться в очень суровых климатических и, возможно, политических условиях.
Мы им будем казаться какими-то невероятными идиотами, и я надеюсь, они нас простят. За наше несовершенство, слепоту. Надеюсь, они будут лучше, чем мы.
Беседовала
Настало время поговорить о том, как мы себя чувствуем в этом новом мире. У нас теперь есть искусственный интеллект, зато нет будущего. Мы бесконечно спорим об этике, но как будто не стали счастливее. Мир как никогда открыт, однако зачем-то схлопывается обратно. Мы начинали век с оптимизмом, а два десятилетия спустя думаем, как сохранить то, что еще не разрушено. Обо всем этом «Медуза» поговорила с молодым российским философом и исследователем бессознательного (имя ученого вы наверняка знаете, но мы не можем называть его из-за нашей «нежелательности»).
— В философско-антропологической перспективе 25 лет — это ничто. Человек каким был — беззащитным, глупым или, наоборот, очень умным и защищенным, — таким и остался. Но очень сильно изменились обстоятельства. Как говорил Маркс: есть базис и надстройка
. Они изменились.
В 2000-м у многих из нас впервые появились мобильный телефон и компьютер. Не у всех еще этот компьютер был подключен к интернету. А теперь выросло целое поколение, которое вообще не представляет мир без связи. Это случилось за четверть века.
За эти 25 лет мы уже успели вкусить разных радостей и свобод, связанных с технологиями — они временами сильно облегчают жизнь, делают ее прозрачной и производительной. Но и создают зависимость. Она особенно заметна в последнее время, когда в системе из-за войны или диктатуры происходят сбои: отключения интернета, блэкауты и прочее.
При этом развиваются также технологии себя и своего тела. Если посмотреть ютьюб или фильмы 2000 года, мы увидим много актеров и актрис с натуральными лицами и естественной мимикой. А сейчас бьюти-индустрия совершенствуется, и лица выравниваются, приближаются к некоему общему стандарту. Становится проще подогнать образ к своему идеалу. Из-за этого, например, люди теперь выглядят намного моложе. Те, кому в 2000-е было за 40, теперь могут выглядеть примерно на тот же возраст. То есть время будто немного затормозилось в этом смысле.
Это точно. Будущее пропало. Вообще исчез этот горизонт — перспектива светлого будущего не присутствует нигде и никак. Это главное, на самом деле, за эти 25 лет. Как, знаете, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Черт украл Луну. А у нас похитили будущее.
У нас поменялась перспектива и ощущение того, что впереди, а что позади. По сути, мы схвачены в зеркало, где будущее и прошедшее — это катастрофа. Они отражаются друг в друге, а мы — словно медиум этого отражения.
Я не знаю, хорошо это или плохо. В целом, светлое будущее само по себе — не такая уж самоочевидная вещь. Может быть, мы просто прозрели за эти 25 лет.
Александр Гронский
—В 2014-м, когда я узнала, что происходит на Донбассе, я вдруг поняла, что война становится нашей реальностью. Что она не в прошлом, но в настоящем. А двигаться к каким-то светлым горизонтам будущего во время войны — это какая-то невменяемая ситуация.
С другой стороны, наша реальность — и в 2014-м, и даже сейчас — это все же не полный конец света и не руины. А полуруины, на которых начинают расти деревья, прорастают цветы из разрушенных зданий, покрываются мхом камни. И ты — этот мох, который осознает свое ничтожество и учится с ним жить.
В будущем, конечно, есть какое-то величие — кажется, что ты движешься к великому, а настоящее можно принести в жертву — просто бросить в топку. А если ты никакой не великий, а просто мох, то ты растешь на руинах. И тогда ты уже не одиночное существо, а коллективное. У тебя появляются родственные души. И вот уже мы уже вместе прорастаем в подвалах, с потолка свисает плесень и мешает порядочным людям строить свой чистый, стерильный порядок будущего фашистского мира.
—Я очень хорошо помню Новый 2000 год. Мы вместе с товарищами пошли на Тверскую площадь, где была куча самых разных людей. И ни одного полицейского. Шампанское лилось рекой. Общий салют, все обнимались, целовались. Это была совершенно хаотичная, никем не регулируемая толпа радостных людей. И в целом тогда Москва была полна мест, с одной стороны, открытых для всех, а с другой, непрозрачных для большого Другого
. В ней было много чего по ту сторону добра и зла.
А потом она похорошела. Люди стали «более лучше одеваться», улицы стали блестящие, стерильные. Когда я приезжаю в Москву, то вижу красивое Бульварное кольцо — вдоль него стоят лавочки, но на них никто не сидит.
Александр Гронский
— Да, с одной стороны, есть этика и мораль, а с другой — чувства. Этическое представление о том, что хорошо и плохо, что можно, а чего нельзя, радикально изменилось за эти 25 лет.
Например, в том, что касается выражения чувств, любви. Мы хотим все контролировать. Но чувства часто конфликтуют с этикой — они принципиально не попадают в зону нашего контроля. За нашими поступками стоят не только и не столько разумные решения и моральные соображения, сколько желания и то, что философы называют страстями или аффектами. Например, любовь к одному человеку — и ревность к другим. Или любовь к своей стране — и ненависть к другим странам.
В целом, прекрасно, когда мы сами себя контролируем. Это большое искусство, древнее как само человечество. Но чаще получается так, что контролировать мы начинаем не себя, а других. И тогда этика оборачивается попыткой поймать за руку другого и сказать: ты во всем виноват. Уличить другого во зле или несовершенстве и тем самым продемонстрировать свою белизну, моральное превосходство. Но я не могу сказать, что это изменение последних 25 лет. Так было всегда.
Но сейчас это [обвинение других] стало более публичным и популярным. Так, например, можно разобраться с собственным подавленным чувством вины — свалив ее на другого и начав этого другого пинать, прогонять в пустыню, приносить в жертву. Словом, искать козла отпущения. И эта современная культура козлов отпущения — это обратная сторона того, что мы пытаемся улучшить моральные нормы на уровне общества.
Мы понастроили себе границ — и окопались в них. Сидим, ждем, когда кто-то за них заступит, чтобы ответить агрессией тем, кто покусился на наш психологический комфорт.
—Да, война у многих вызывает чувство вины, но не все могут с ним справиться, потому что оно болезненно.
Здравомыслящие люди говорят: вина — это плохое слово. Вина — это когда вы кого-то обвиняете, а у них потом появляется ресентимент: они затаивают обиду, а потом ее выплескивают. А ответственность — это когда вы говорите: да, от меня что-то зависит, и я могу что-то сделать или изменить.
Этот тезис известный, но с виной все-таки есть большая проблема: просто так от нее не отмахнуться. Это как первородный грех. Про него тоже кажется: ну, какой первородный грех? Младенец невиновен. И вдруг значительную часть мира захватывает религия, основанная на метафизике первородного греха, из которого мы выросли, чтобы его превозмочь.
В чувстве вины есть что-то, что не растворяется, не уходит — некий несводимый остаток. И он может причинять боль и страдания. Я помню, когда началась война в Украине, у меня от чувства вины буквально скручивало ноги.
И вот мы не можем справиться с этим чувством, мы его вытесняем. Мы не чувствуем никакой вины, мы ни в чем не виноваты. А вот они виноваты: мой сосед, мой друг, мой ближний. Родители. Мама виновата. Папа виноват, конечно. И вот этот брат, который пошел воевать. Но не я. Оставьте меня в покое, пожалуйста.
Это выученная невинность, выученное бесчувствие. Как и выученная беспомощность, оно лечится. Лучшее лекарство — не вытеснение этого чувства, не перенос вины на другого, а практическая деятельность. Добрые дела, которых никто не видит. Анонимное участие и волонтерство.
Александр Гронский
—С одной стороны, кажется, что насилия стало больше после начала войны. Но в двухтысячные в России тоже было очень много насилия — бытового, например. И в какой-то момент мы об этом забыли.
А потом случился ковид, который сильно пошатнул нашу толерантность. Изменилось отношение к смерти — ее было много, и она была рядом. Постоянно появлялись новости, что умер кто-то из дальнего круга. Потом — из ближнего, чьи-то родители. Это был разгул смерти с косой по всему миру. Да, это длилось не так долго, как чума, но тем не менее. Мы как вид с этим справились, но какую-то цену за это заплатили — и, я думаю, сейчас мы не можем оценить, какую, потому что дистанция еще недостаточно значительная.
Но что-то уже видно. Именно в ковид стало понятно, что можно просто взять и закрыть границы между государствами. И не случится никакой супер катастрофы. Случится локально, но, в принципе, не конец света. Плюс, стало понятно, что привычное течение рынка можно просто приостановить. Это можно сделать на государственном уровне — сказать, что сейчас у нас чрезвычайное положение, вот это и это больше не работает, теперь мы живем по новым правилам.
Пять лет назад Бруно Латур
писал, что ковид — это репетиция климатической катастрофы, которая будет куда более страшной. Но, может быть, это была репетиция не климатического апокалипсиса, а войны, которая пришла быстрее. И я говорю не о конкретной войне, а о милитаризации как глобальном тренде.
Сейчас все хотят войны. Точнее вроде бы и не хотят, но готовятся. И тут включается логика самосбывающегося пророчества. Допустим, страна Х и страна Y — каждая сама по себе — активно обсуждают опасность, которую несет для нее соседняя страна. «Они собираются на нас напасть, давайте мы тоже будем готовиться к нападению». Происходит взаимный превентивный процесс. Дальше копится военная мощь, и надо ее куда-то тратить. Так открывается воронка, которая затягивает сначала ближайших соседей, потом дальних, потом еще более дальних, и потихоньку все туда проваливаются.
В 2000 году о Третьей мировой войне не могло быть и речи. А сейчас это главная тема, все об этом говорят — причем всерьез, не шутят.
Я не удивлюсь, если через какое-то время смерть станет совсем обыденным делом. Допустим, жили люди хорошо, а потом раз — и трупы уже вешают на столбах. И ты идешь на работу, думаешь: сегодня у меня совещание, надо представить свой проект, а рядом кого-то опять вешают. И тебя это больше не шокирует.
Конечно, я не говорю, что это случится прямо завтра. Мы вообще договорились, что будущего не существует. Но я имею в виду, что мы становимся более толерантны к прямому насилию.
Александр Гронский
—Это не цинизм. Нас, конечно, триггерит насилие, потому что мы же становимся все более моральными, то есть хотим все контролировать. А насилие выходит из зоны контроля. Но некоторые вещи вокруг теперь воспринимаются более обыденно. Например, нас не шокирует, что кого-то ни за что посадили в тюрьму на 25 лет и пытают.
25 лет назад нас бы это сильно шокировало. А сейчас, поскольку мы об этом довольно часто читаем, то думаем: «Ну, вот еще кому-то не повезло. В этой „Игре в в кальмара“ опять кто-то попался».
— 25 лет назад была совершенно другая сексуальная культура. В ней социальной нормой были различного рода манипуляции. А теперь они кажутся либо отвратительными, либо смешными. Нас учили: хочешь понравиться мужчине — притворись слабой или скажи, что у него большой член.
Молодежь понимает, что цинизм, манипуляции, абьюз — все это дорога в ад. Уходят в прошлое традиционные гендерные роли. Например: году в 1999-м я была еще совсем юной девушкой, познакомилась в клубе с мужчиной постарше, мы провели вместе ночь у него дома. Утром он просыпается и говорит: «Зай, я на работу, а ты пока тут приберись, пыль протри. Вернусь — пойдем по магазинам подарки тебе покупать». Я тогда растерялась, не знала, что ответить. Просто дождалась, когда он уйдет — и тоже тихо ушла. Но осадок остался. Современная девушка, наверное, не промолчала бы в такой ситуации. Да и вряд ли современный мужчина сделал бы такое унизительное предложение. А тогда такое казалось в порядке вещей.
Люди сегодня открыто обсуждают сексуальные практики. Опять же, технологии помогают: с будущими партнерами, которых мы, допустим, находим в приложениях для знакомств, можно договориться еще на берегу о своих сексуальных предпочтениях. Исчезает ли при этом романтика, тайна? Не знаю. Мне кажется, любовь — такая вещь, что некая недосказанность в ней будет всегда. Даже если нам будет казаться, что мы обо всем договорились.
Александр Гронский
—Все циклично. Сейчас время реакции. Такое время неизбежно порождает большое количество жертв — человеческих и не только. Люди гибнут за символические ценности, за флаг, за территорию, за доминирование.
Скатываются в состояние варварства, но все равно остается что-то живое. В конце концов это живое прорастет, даст плоды, милитаристы всех мастей друг друга перегрызут и сгинут, придут энтузиасты и начнут строить новый мир или восстанавливать порушенное. Добиваться расширения прав и свобод.
И когда жизнь снова станет относительно мирной и благополучной, начнется очередной правый поворот. Кому-то не понравится, что у женщин слишком много прав и свобод, кого-то взбесят люди непохожей внешности, еще где-то обнаружат скрытых врагов — и постепенно общество встанет на деструктивные рельсы. Дескать, хотим движухи, чтобы взрывалась граната, чтобы у нас билось сердце, чтобы мы могли умереть за что-то абсолютно эфемерное, а не просто влачить жалкое обывательское существование.
Если посмотреть на руководителей современных государств, можно сделать вывод, что от патриархальной первобытной орды, которую описывал Фрейд, мы ушли недалеко. Вернее, вообще никуда. Сначала альфа-самцы захватывают все ресурсы при помощи грубой силы, затем, когда они всех достали, их убивают. Но вскоре кто-то из братьев-убийц сам становится таким «отцом» и все начинается по-новой. Такие вот качели. И нам с них никак не соскочить.
Нельзя представить хороший мир, который уже больше не изменится и будет просто совсем хорошим. Прекрасную Россию будущего, которая соскочила с качелей — и все, всегда прекрасная. Нет, такая прекрасная Россия будущего существует только по ту сторону индивидуальной жизни. Называется она загробный мир. И в этой России нет ничего: ни одного человека, ни одного дома, ни одной живой души.
Александр Гронский
— Я почти уверена, что у них будут совершенно другие материальные условия существования. Непонятно, чем они вообще будут дышать. Они, конечно, будут находиться в очень суровых климатических и, возможно, политических условиях.
Мы им будем казаться какими-то невероятными идиотами, и я надеюсь, они нас простят. За наше несовершенство, слепоту. Надеюсь, они будут лучше, чем мы.
Беседовала
по материалам meduza
Comments
There are no comments yet
More news